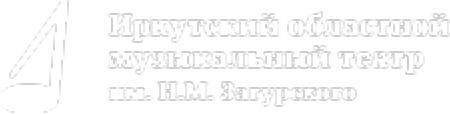ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

3 февраля, ЮБИЛЕЙ празднует солист-вокалист Иркутского музыкального театра Евгений Алешин! Желаем Евгению здоровья, прекрасных образов на сцене и новых творческих достижений! Всего наилучшего, самого чудесного и самого счастливого!

Евгений Алешин: «Каждый спектакль должен быть лучшим!»
50 лет – «золотое время» для актера: надежды уже оправданы, есть признание и опыт, но впереди еще очень много интересных ролей. В преддверии своего пятидесятилетнего юбилея Евгений Алешин, солист – вокалист Иркутского музыкального театра, любимец публики и один из самых органичных актеров в амплуа героя, рассказал о себе и поделился с тайнами своей непростой профессии. Какой он – герой без грима?
– Евгений, как Вы оцениваете этот период своей творческой жизни?
– Это прекрасное время, и мне повезло, что в моей профессиональной жизни есть такая «золотая пора». Увы, не у всех она бывает. Я пришёл в театр в 35 лет, и старшие коллеги, многие из которых тоже начинали в достаточно зрелом возрасте, рассказывали, что они сначала все время были «подающими надежды», а потом как-то резко перешли в «возрастные актеры». Возможно, это особенность именно провинциального театра, где смена поколений артистов не всегда происходит гармонично.
– Это отражается на работе?
– Конечно! Начинающему актеру важно видеть работу мастеров в своем амплуа, потому что объяснить на словах, как нужно «прожить» на сцене тот или иной кусочек, невозможно. Режиссеры наполняют образы, чтобы они не были плоскими и прямолинейными, и когда актер совсем молод, когда у него еще нет ни профессионального багажа, ни жизненного опыта, – разве объяснишь ему природу той или иной эмоции…. Нужно, чтобы было у кого «подсмотреть», у кого учиться на практике. Так было и со мной: когда я пришел в театр, актеры старшего поколения в партиях героев уже почти не работали, и очень многое пришлось постигать самому. Но мне помог жизненный опыт, уже накопленный к тому времени. Всё-таки 35 лет – возраст приличный.
– Кстати, а почему только в 35?
– Я вообще «поздний» (улыбается). Поздно (по советским меркам) родился, поздно пришел в музыку. Я даже в училище на вокальное отделение поступил только в 22 года; в этом возрасте многие уже консерваторию заканчивают. Я учился в математической школе и в сторону музыки сначала даже не смотрел. Пытался поступить в Московский Институт управления, отслужил в армии. Потом я два года играл в группе: на клавишных, на саксофоне, на бас-гитаре, пел. Мне многое было интересно. Но я не жалею, что не шёл всю жизнь по одной дороге: благодаря этому я многое могу. У каждого свой путь и свой темп. Вот только время для победы в конкурсах – до 35-и лет – осталось где-то позади, но и это не потеря.
– Почему?
– Конкурсы – это не моё. В этом я похож на отца. Он настоящий музыкант, но с экзаменами, с конкурсами, с проверочным тестированием у него всегда были сложности; и у меня тоже. Видимо, не случайно судьба меня от этого отвела. Когда меня именно оценивают, я чувствую зажим. Похоже, на театральной сцене действительно существует 4-я стена, она помогает с этим справиться, и все комплексы и зажимы слетают.
– Комплексы в профессии актера? Разве это не парадокс?
– Нет, как ни странно. Говорят, многие актеры выходят на сцену, чтобы прожить какие-то альтернативные жизни, дать выход нереализованным сторонам своей натуры. Трусоватый человек может играть храбреца, а герой-любовник в жизни может быть очень застенчивым парнем. Там, в жизни, у него не получается, а здесь ему как будто разрешают прожить всё, что недоступно. Здесь многое прячется. Человек вообще соткан из комплексов, но кто-то умеет их сбрасывать и скрывать, а кто-то не может. Многие актеры именно так и реализуются – играя на сцене то, чего не могут в реальности. Достаточно Вицина вспомнить – далеко не «комического» по жизни, и многих других артистов, чей сценический образ совершенно не соответствует реальному характеру.
– В Вашей актерской природе очень сильны и музыкальная, и драматическая составляющие. Какая из них первична именно для Вас?
– В нашем театре, если ты чего-то не «допоёшь» – тебе простят. Но если не «доиграешь» – нет. Мне повезло в том смысле, что голос, пусть не самый выдающийся, у меня есть, но это только один из инструментов, и я никогда не воспринимал его как главный, не жалел его и не «холил».
– И Вы не боитесь, что голос с годами ослабнет?
– Не думаю, что в глубокой старости я кому-то буду интересен даже с хорошим голосом. И не уверен, что это будет нужно мне. А работать наполовину, с оглядкой, чтобы беречь голос – я не могу. Если мой персонаж должен что-то проорать, прохрипеть – я это сделаю, и не буду в это время бояться, что через 20 лет я звука не издам. Ну, значит, не издам. Или не надо вообще эту роль работать.
– То есть, сценический прагматизм и экономия ресурсов – не для Вас?
– Я не понимаю, как можно экономить ресурсы. Я чувствую, что мой Резанов (главный герой рок-оперы ««Юноны» и «Авось»» — ред.) должен быть именно таким – яростным. У кого-то он может быть и другим, у каждого свое восприятие. Пусть, но главное, что работать роль с оглядкой на будущее – это не для меня, потому что… Есть фраза Николая Караченцова, с которой я полностью согласен: «Я выхожу на каждый спектакль и работаю так, чтобы зритель, который пришел сегодня, сказал, что это был мой лучший спектакль». Каждый спектакль должен быть таким – лучшим. Как в последний раз.
Но я не приветствую, когда актер теряет чувство реальности, «входит в роль и забывает из нее выйти». Так тоже нельзя, потому что сцена есть сцена. Зрители должны видеть, что ты готов и умереть, и убить, но при этом все должны оставаться живыми (улыбается). Это уже о профессионализме. Актер – многолик, и недаром символ театра – маски.
– Все Ваши роли удивительно яркие. Барон Кревильяк в недавней «Принцессе цирка» особенно удивил. Сейчас это единственная откровенно комедийная роль у вас?
– Сейчас – да, а раньше были. Хороший актер может работать в разных амплуа, и важно, чтобы режиссер мог увидеть это в актере.
– В Вас это видят?
– По-разному бывает. Один мой старший коллега как-то сказал: «Когда режиссер ставит спектакль, для него мы все – дураки. А он – умный. И он учит нас, как жить, как играть». Это правильно, но я добавлю: тогда очень важно, чтобы режиссер был действительно умным. Во всем, что касается этого спектакля, он должен быть докой. А если режиссеру не хватает чего-то – эрудиции, мудрости, трудолюбия… тогда настоящий спектакль не получится; он будет составленным из разрозненных кусков и персонажей. Если режиссер, мягко говоря, недалек – чему он научит актера? Просто покажет, где входить-выходить? Но об этом мы и сами можем договориться, и, пожалуй, будет логичнее. Режиссер должен быть философски обогащенным. И мы, актеры, очень зависим от того, кто приходит.
На мой взгляд, есть два типа хороших режиссеров. Первый всё знает, всё выстраивает сам, но объясняет логику, и ты понимаешь, что, как, и почему. Он тебя лепит, месит, выкручивает, но он видит, что из тебя может получиться. Второй тип рисует картинку в целом, а ты существуешь внутри, и он тебя только корректирует, и объясняет почему. То есть он тебе дает достаточно свободы, только руководит слегка. Вот это идеально. Пожалуй, я еще не встречался с режиссером, с которым был бы согласен на 100%. Со временем мы почти всегда находим в спектакле много такого, что можно было бы изменить. И это нормально. Спектакль – живой организм, и, по-хорошему, в нем всегда можно что-то подправить. Этим он и отличается от кино, и режиссеры, как правило, это понимают. Наталья Печерская о спектакле ««Юнона» и «Авось»» так и говорит: «ребята, я понимаю, что вы в этом живете, и что это уже совсем другой спектакль. Не надо переживать. Спектакль ставился в 96-м году, прошло почти тридцать лет». За эти года многое изменилось, и я меняюсь, а со мной меняется мой Резанов. Он становится старше, куда деваться… где-то слабее, где-то мудрее, это же естественно. И если не менять концепцию – будет плохо. И небольшие корректировки – это нормально, ведь глобально мы ничего не меняем. К примеру, в сцене, где поет Богоматерь, мой Резанов идет к ней. Этого нет у других исполнителей, но когда Наталья Владимировна это увидела, она одобрила и даже предложила высветить это лучом. Это не значит, что я что-то такое вдруг увидел и захотел – это произошло внутри меня. Почему нет, если это не противоречит концепции спектакля?
– В каких ролях вам особенно хорошо живется?
– Из последних – это как раз Барон Кревильяк в «Принцессе цирка». Я понимаю, что, почему и зачем я в этой роли делаю, почему я такой и говорю таким голосом. То, что меня поставили на роль Кревильяка, меня сначала удивило. А потом стал думать, искать. Поет этот персонаж мало и для меня низковато, значит, надо смещать акценты. Когда художник нарисовала костюм, всё сложилось; стал оправданным и этот высокий голос, и манерность, и светскость, и тросточка, и очки, чтобы подчеркнуть аристократизм.
– А из предыдущих ролей – какие Вам наиболее близки?
– Видимо, в силу непростого характера (улыбается), мне близки роли, в которых персонаж что-то преодолевает. Сирано, Резанов, Гарин, Иисус, – они ведь все время с кем-то борются. Даже с самим собой, как Гарин, например. Но роли, к сожалению, или к счастью, тоже накладывают на нас свой отпечаток, и я во многом соответствую Резанову, его отношению к жизни: «Я удивляюсь, Господи, тебе, поистине, кто может, тот не хочет, тебе милы, кто добродетель корчит, а я не умещаюсь в их толпе…»…Наверное, это не всегда правильно. Надо быть чуть-чуть гибче, чуть-чуть мягче, чуть-чуть мудрее. Да, что-то такое есть в моем характере, и я это осознаю, и постоянно с этим борюсь, но пока безуспешно …
– Может, это и к лучшему?
– Может быть…. Как говорил один герой – «я не могу не сказать подлецу, что он подлец», но, наверное, иногда можно было бы и смолчать. Но какой смысл ворчать, ничего не меняя?
– Вы поэтому решили освоить профессию продюсера?
– Отчасти. Если хочешь что-то исправить, что-то поменять – нужно знать, как. Просто махать топором – неправильно.